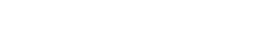Продолжаем оспаривать результаты налоговой проверки
 В нашей недавней статье мы рассказали о процедуре обжалования акта проверки в проводившей ее территориальной налоговой инспекции. Подробно расписали, как готовятся возражения налогоплательщика, как проводятся мероприятия дополнительного налогового контроля и как проходит рассмотрение итогов проверки. Почитать об этом вы можете здесь.
В нашей недавней статье мы рассказали о процедуре обжалования акта проверки в проводившей ее территориальной налоговой инспекции. Подробно расписали, как готовятся возражения налогоплательщика, как проводятся мероприятия дополнительного налогового контроля и как проходит рассмотрение итогов проверки. Почитать об этом вы можете здесь.
И вот теперь представьте: после долгих переговоров и рассмотрений территориальная налоговая инспекция выносит, наконец, решение… и это решение не в вашу пользу! Вы не согласны и рветесь доказывать свою правоту в суде. Но прежде вам придется пройти через еще одно испытание – обжалование решения налоговой инспекции в вышестоящем налоговом органе (ВНО). Старший налоговый брат проверит законность доначислений и вынесет свой вердикт. Без этого в суд не попасть.
Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом (п. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ).
Шаг 1. Готовим апелляционную жалобу
Апелляционная жалоба — документ, где вы излагаете свои возражения по поводу фактов, на основании которых вас привлекают к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Не путайте ее с апелляционной жалобой, которая подается в суд!
Важно: в случае апелляционного обжалования принятое налоговой инспекцией по результатам проверки решение считается не вступившим в законную силу (до принятия решения ВНО). Это означает, что принудительно взыскивать с вас начисленную задолженность налоговики некоторое время не могут.
Решение налоговой инспекции можно обжаловать в полном объеме, а можно в части. Но внимание! Если вы обжаловали решение частично, но при этом что-то забыли, то оспаривать «забытую» часть в судебном порядке уже не получится, поэтому правильнее обжаловать решение в полном объеме.
Если вы намерены ссылаться на нарушение налоговым органом условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, то об этом надо обязательно заявить в апелляционной жалобе. Если этого не сделаете, то суд данный довод также оставит без рассмотрения.
Срок подачи апелляционной жалобы в вышестоящий налоговой орган (ВНО) – один месяц с даты вручения вам решения по проверке.
Решение по результатам налоговой проверки вручено налогоплательщику 26.05.2021. В этом случае срок представления апелляционной жалобы истекает 28.06.2021. Он начинает исчисляться с 27.05.2021 – дня следующего за днем вручения решения, но последний день — 27.06.2021 является выходным, в связи с чем окончание срока переносится на 28.06.2021.
Времени не так много, поэтому работаем внимательно, но быстро. Тщательно изучаем решение по результатам проверки и сравниваем его с содержанием акта. Не отраженные в акте проверки нарушения налоговики не имеют права включать в текст решения! Кроме того, если в акте предлагается привлечь вас по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса, то в решении нельзя привлекать вас по п.3 той же статьи. Если налоговики будут оправдываться и говорить о технической ошибке, не соглашайтесь и требуйте исправления всех документов.
Апелляционная жалоба в вышестоящий налоговой орган (ВНО) должна содержать ряд обязательных элементов:
— фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица или наименование и адрес организации, подающей жалобу;
— реквизиты обжалуемого решения;
— наименование налогового органа, решение или действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются;
— основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;
— ваши требования;
— способ получения решения по жалобе (на бумажном носителе, по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика);
— подпись уполномоченного лица (с приложением документа, подтверждающего полномочия этого лица).
Шаг 2. Подаем жалобу
Апелляционная жалоба адресуется в вышестоящий налоговый орган, но подается через территориальную налоговую инспекцию, вынесшую решение (по аналогии с апелляционным обжалованием в арбитражном процессе).
Способы подачи: по ТКС, по почте или лично.
Важно: на этом этапе можно представить дополнительные документы в свое оправдание.
Шаг 3. Рассмотрение жалобы. Этап инспекции
Итак, апелляционная жалоба поступила в территориальную налоговую инспекцию, ту самую, которая вынесла решение о привлечении вас к ответственности. Ее сотрудники в течение трех рабочих дней обязаны направить жалобу, оспариваемое решение, акт проверки и все необходимые материалы в ВНО.
Помимо этого, сотрудники инспекции подготовят письменные пояснения по доводам вашей жалобы, в котором будут объяснять, почему правы они, а не вы. Это внутреннее заключение будет направлено в ВНО вслед за документами.
Шаг 4. Рассмотрение жалобы. Этап ВНО
Внимание, есть несколько причин, по которым вышестоящий налоговый орган (ВНО) может оставить вашу апелляционную жалобу без рассмотрения.
Первая причина. Жалоба подана с нарушением порядка, установленного пунктом 1 статьи 139.2 НК, или в жалобе не указаны реквизиты обжалуемого решения.
Вторая причина. Вы нарушили сроки. Если жалоба подана позднее, чем через месяц, и без ходатайства о восстановлении пропущенного срока, то ее рассмотрят как обычную, а не апелляционную жалобу. Главное последствие: решение территориальной инспекции по результатам проверки вступит в законную силу. Это значит, что начнётся процедура принудительного взыскания доначисленной задолженности за счет денежных средств или имущества компании-налогоплательщика.
При рассмотрении обычной жалобы можно, конечно, направить ходатайство о приостановлении действия оспариваемого решения. Но удовлетворит его ВНО или нет, не известно, это рулетка, поэтому важно подавать именно апелляционную жалобу.
Третья причина. Вы отозвали апелляционную жалобу полностью или в части.
Четвертая причина. Вы забыли подписать апелляционную жалобу или не подтвердили полномочия лица, ее подписавшего. И такое случается!
Пятая причина. До принятия решения по жалобе организация, подавшая ее, исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа или ликвидирована. Или же получены сведения о смерти физического лица, подавшего жалобу.
У вышестоящего налогового органа (ВНО) есть 5 рабочих дней на принятие решения об оставлении жалобы без рассмотрения, считая с даты поступления апелляции либо с даты наступления соответствующих обстоятельств, и еще 3 рабочих дня для направления этого решения вам.
Если же с поданной вами жалобой все в порядке, то ее рассмотрят по существу. По общему правилу ВНО рассматривает апелляционную жалобу и все материалы проверки без участия налогоплательщика. Исключение может быть сделано только в случае, если обнаружатся противоречия между сведениями, представленными вами и налоговой инспекцией, или данными, содержащимися в материалах проверки. В этом случае вы будете приглашены на рассмотрение жалобы в ВНО. О времени и месте встречи вас заблаговременно известит руководитель (заместитель руководителя) соответствующего налогового органа.
Форма участия в рассмотрении: очная или с использованием видео-конференц-связи. Порядок онлайн-участия введен в НК РФ в марте 2021 года, официального регламента еще нет. Ждем.
До даты вынесения решения по жалобе у вас могут запросить дополнительные документы, или вы можете представить их по собственной инициативе. Если поступит запрос, не игнорируйте его, представляйте документы, это в ваших интересах.
Шаг 5. Решение по апелляционной жалобе
По итогам рассмотрения апелляционной жалобы старший налоговый брат – ВНО — должен вынести решение. Вариантов четыре.
1) Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Это наихудший для вас вариант, после этого вы с чистой душой можете идти в суд.
2) Отменить решение инспекции полностью. Это победа и лучший финал. Вы ничего не должны доплачивать в бюджет, можете на сэкономленные деньги купить себе новую машину или отправиться с семьей в путешествие.
3) Отменить решение инспекции в части. Это радость, но не полная. Если такой результат вас не устроит, вам надо идти в суд обжаловать неотмененную часть решения.
4) Отменить решение налогового органа полностью и принять по делу новое решение. Такой вариант возможен, если выяснится, что были нарушены существенные условия процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Тут трудно сказать однозначно, хорошо это или плохо для налогоплательщика, плюсы и минусы будут видны из текста нового решения.
Важно: при принятии нового решения положение налогоплательщика не должно ухудшиться! Доначислить налоги, пени, штрафы сверх того, что было в первоначальном решении инспекции, нельзя. Зато можно инициировать повторную выездную налоговую проверку, и это, конечно, не очень хорошо.
По закону срок вынесения решения вышестоящим налоговым органом — один месяц со дня получения апелляционной жалобы. Этот срок может быть продлен еще на один месяц. По этому поводу должно быть вынесено отдельное решение, до сведения налогоплательщика его полагается довести в течение 3 рабочих дней.
На практике сроки часто и значительно нарушаются. Наш совет: если вы не получили ответ по апелляционной жалобе в установленный срок, обратитесь с жалобой в ФНС. Но должны предупредить, что нарушение процессуальных сроков налоговиками не является действенными основанием для признания решения незаконным.
С 17 марта 2021 года действуют новые поправки к НК РФ. В соответствии с ними срок рассмотрения апелляционной жалобы может быть приостановлен по инициативе налогоплательщика или по решению ВНО. Если с соответствующим ходатайством обратится налогоплательщик, то ВНО приостановит рассмотрение жалобы не более чем на шесть месяцев.
Если же процедура приостанавливается по инициативе ВНО, то срок приостановки зависит от срока действия обстоятельств, предусмотренных абзацем 5 п.1 ст. 140 НК РФ.
Рассмотрение апелляционной жалобы может быть приостановлено по решению вышестоящего налогового органа, рассматривающего жалобу
— до разрешения дела о том же предмете и по тем же основаниям арбитражным судом, судом общей юрисдикции;
— в случае невозможности рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) до разрешения другого дела судом в конституционном, гражданском, арбитражном, административном, уголовном судопроизводстве;
— до рассмотрения заявления о проведении взаимосогласительной процедуры в порядке, предусмотренном главой 20.3 настоящего Кодекса (абзац 5 п.1 ст.140 НК РФ).
Напомним, что сроки, приведенные в статье, исчисляются с учетом положений статьи 6.1 НК РФ.
Если перед вами стоит задача отменить результаты налоговой проверки, и вы чувствуете, что не справитесь самостоятельно, обращайтесь к нам.
Чтобы скачать справочные материалы по этой теме, введите свой е-мейл:
Как мы спасли гендиректора от заключения. Аудиторского

Дело: А40-66928/16
Цена вопроса: 38 527 512 рублей
Начало проекта: сентябрь 2020 года
Срок реализации: апрель 2021 года
Сложность: 3/5
Трудозатраты: 45 н/часов
Темп: спокойный
Результат: дело выиграно
Стоимость: шестизначная в рублях
Осенью 2020 года к нам за помощью обратился бывший генеральный директор компании «Альбатрос Лоджистикс» Виталий. В июне 2017 года компанию признали банкротом, и в отношении нее было открыто конкурсное производство. А в конце 2019 года в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от одного из реестровых кредиторов «Альбатроса» — «ТК НовоТЭК». Кредитор требовал привлечь к субсидиарной ответственности четверых генеральных директоров компании, последовательно занимавших этот пост в 2015–2016 годах. Наш клиент Виталий стоял в этом ряду первым, он был гендиректором до середины ноября 2015 года. Вменялась ему неподача заявления о банкротстве компании.
Заметим, что кредитор уже давно точил зуб на нашего клиента. Ранее он подавал заявление о взыскании с Виталия убытков, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении.
Виталий обратился к нам за консультацией, когда заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было уже в суде. Он как следует изучил проблему субсидиарки, в том числе, с помощью нашего сайта, и подготовил позицию, которую планировал обсудить и уточнить.
Виталий также хотел, чтобы мы представляли его в суде, но полноценная работа «под ключ» оказалась для него слишком дорогой. В этой ситуации мы посоветовали ему сосредоточиться на подготовке качественной правовой позиции. Конечно, выступления в суде играют свою роль, но все-таки на 70 процентов успех зависит от того, что написано на бумаге. Если позиция выстроена грамотно, есть шанс выиграть дело и без присутствия юриста. Что данный случай и подтвердил. Так что, если денег не хватает, выбирайте разработку правовой позиции!
Еще одно важное замечание. При подготовке позиции всегда надо закладывать в нее некоторый «запас прочности», строить несколько линий обороны на тот случай, если какой-то из ваших доводов не сработает.
Мы предложили Виталию использовать одновременно три «дебютные» идеи: привлечение соответчика-бенефициара компании, заявление о пропуске сроков исковой давности и — главное — оспаривание утверждения, что именно в период его работы компания пришла в состояние неплатежеспособности.
Логика здесь была следующая: в соответствии с законом о банкротстве суд вправе полностью освободить лицо от субсидиарной ответственности, если оно докажет, что фактически не оказывало влияния на деятельность организации (было номинальным лицом), и предоставит сведения, позволяющее установить фактического КДЛ. В нашем случае таким реальным КДЛ был бенефициар компании, которого мы задумали привлечь соответчиком.
А пропуск срока исковой давности сам по себе является полноценным основанием для отказа в удовлетворении иска.
Дальнейшие события подтвердили правильность такого подхода. В итоге направления «Соответчик» и «Пропуск срока» не выстрелили, зато историю с неплатежеспособностью удалось отыграть в лучшем виде. Об этом и поговорим далее.
Плюсы
1. Любимая тема
Мы очень хорошо разбираемся в субсидиарке и выиграли не один десяток таких
дел
2. Клиент не мешал работать
Иногда клиент чрезмерно активничает и постоянно вносит нелепые предложения. В этом случае доверитель не импровизировал и следовал нашим инструкциям
3. У нас были документы
Виталий сумел сохранить некоторые важные документы, которые помогли в деле
Минусы
1. Плохой партнер
Один из гендиректоров—соответчиков по делу, стараясь выгородить себя, фактически топил нашего клиента. Это потребовало дополнительных усилий при подготовке позиции
2. Сам себе представитель
Клиент сам ходил в суд. И хотя позицию ему готовили мы, был определенный риск, что он не сможет хорошо изложить все доводы и донести их до судьи
3. Отсутствовал акт приема-передачи документов
У клиента не было акта о передаче документов следующему гендиректору. Этот факт нам надо было старательно обходить
4. Презумпция вины
Наш доверитель был гендиректором, а значит, являлся КДЛ по умолчанию, и в отношении него действовала презумпция вины, что никак не упрощало дела
Разгромная рецензия
В деле Виталия было обстоятельство, которое нас тревожило. Один из соответчиков – Антон, занимавший пост гендиректора сразу после Виталия, вместе с отзывом представил в суд аудиторское заключение о финансовом положении «Альбатрос Лоджистикс» по состоянию на 14 октября 2015 года. Готовивший заключение сторонний аудитор делал вывод, что существовала высокая вероятность банкротства компании по итогам работы в 2015 году.
Таким образом, соответчик пытался доказать, что все беды начались еще при Виталии. А сам Антон был вроде как ни при чем — в момент назначения на должность он якобы пребывал в неведении относительно финансового положения предприятия, а когда 18 января 2016 года узнал из отчета аудитора об истинном положении дел, то срочно подал в отставку (3 февраля 2016 года). И так как между моментом представления отчета и увольнением прошло меньше месяца, то у менеджера не возникло обязанности подать то самое заявление о банкротстве. Ну, не успел он!
Защищая себя, Антон фактически топил нашего клиента. Если бы суд принял аудиторское заключение в качестве доказательства, положение Виталия сильно осложнилось бы. Поэтому мы подготовили ходатайство о признании данного доказательства недопустимым. А в качестве обоснования сделали рецензию на аудиторское заключение. Сразу скажу, нам удалось обнаружить в этом заключении несколько существенных косяков.
Напомним, что вопрос о моменте наступления неплатежеспособности был критически важным для нашего клиента. Обычно решить эту задачку помогает финансовый анализ, который проводится на стадии наблюдения.
В случае с «Альбатросом» анализ платежеспособности не проводился ввиду отсутствия бухгалтерской документации. И аудиторское заключение фактически должно было подменить собою финанализ и отодвинуть момент наступления неплатежеспособности назад в прошлое, в тот период, когда компанией руководил Виталий. Мы считали это незаконным и доказали, что представленное заключение не соответствует Правилам проведения финансового анализа, а потому не может быть основой для принятия решения о виновности нашего клиента.
В частности, мы отметили, что был нарушен пункт 2 Правил, который устанавливает цели финансового анализа. Эта процедура проводится для подготовки предложения о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности должника, возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов, подготовки плана внешнего управления и др. Ничего этого в представленном в суд аудиторском заключении не было.
Нарушен также был пункт 5 Правил, в соответствии с которым в ходе финансового анализа используются документально подтвержденные данные, а все заключения и выводы основываются на расчетах и реальных фактах. С этим, как выяснилось, были большие проблемы.
В заключении говорилось, что бывший главный бухгалтер «Альбатроса» (уволилась 20 ноября 2015 года) не передала новому гендиру Антону надлежащим образом «данные бухгалтерского учета, первичные документы, дела, электронные ключи и пароли к информационным базам».
Конечно, главбух поступила нехорошо, но что из этого следовало? А то, что достоверной информации, на основании которой можно было бы делать выводы о финансовом состоянии компании, в распоряжении аудитора не имелось. Сам аудитор оценивал надежность контрольной среды в целях аудита, как «крайне низкую».
Наконец, был нарушен и пункт 6 Правил, в котором говорится, что коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета, берутся поквартально не менее, чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства.
Сторонний аудитор, готовивший заключение, основывал свои выводы на данных за один полный завершенный год — с 01.01.2015 по 31.12.2015. А в разделах «Структура имущества и оценка стоимости чистых активов Общества», «Анализ финансовой устойчивости», «Анализ ликвидности активов и обязательств Общества», «Анализ эффективности деятельности Общества» для сравнений использовались даты 01.01.2015 и 14.10.2015.
На этом основании мы утверждали, что отчет стороннего аудитора являлся недопустимым доказательством. И делать на его основании достоверные выводы о финансовом положении компании было нельзя.
Суд с нашей позицией согласился. В определении зафиксировано, что «аудиторское заключение не содержит перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит, более того, в случае, если документация должника не передавалась, то указанный отчет невозможно было бы провести, к заключению не приложено ни единого исследуемого документа, в связи с чем отчет индивидуального аудитора … руководству ООО «Альбатрос Лоджистикс» по результатам проведения анализа финансового состояния признается судом недопустимым доказательством».
P. S. Любопытная деталь. На последнем заседании суда первой инстанции конкурсный кредитор неожиданно уточнил свои требования. Он отказался от претензий в отношении всех ответчиков, кроме нашего клиента, и сосредоточил весь огонь на Виталии. Нам стало очевидно, что аудиторское заключение появилось в деле неспроста и что мы поступили совершенно правильно, уделив ему так много внимания. Мы были очень довольны, когда увидели, что в определении судья фактически скопировала наши доводы по этому вопросу. Одним словом, силы наших специалистов и деньги клиента были потрачены не зря.
Недоказанная неплатежеспособность
Однако недостаточно было отбиться от ненадлежащего доказательства. Вопрос о неплатежеспособности продолжал стоять в повестке дня, и с этим надо было что-то делать.
В своем заявлении кредитор «Альбатроса» приводил несколько фактов неоплаты услуг, оказанных различными фирмами, в числе прочих был там и долг перед «ТК НовоТЭК» на сумму 728,5 тыс. рублей. И почти все эти случаи относились к 2015 году. На этом основании заявитель делал вывод, что неплатежеспособность компании наступила именно в 2015-м году, в то время, когда гендиром был Виталий.
На первый взгляд, выглядело это все зловеще, но мы смогли выдвинуть серьезные возражения и по данному пункту. Удалось это сделать во многом благодаря тому, что у клиента сохранились промежуточные балансы за I, II и III кварталы 2015 года.
Тут надо отметить, что с 2015 года закон не требовал сдавать квартальную отчетность, поэтому имевшиеся в распоряжении Виталия документы делались для внутреннего использования и не содержали обязательных атрибутов — подписей и печатей. Тем не менее, по ним можно было судить об имуществе и средствах компании. Наши оппоненты не заявили возражений, и суд принял эти данные во внимание.
Так вот, согласно информации о финансовых результатах деятельности «Альбатрос Лоджистикс» за январь-сентябрь 2015 года, представленной в материалы дела, выручка предприятия составила 323,3 миллиона рублей, прибыль от продаж — 8,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 87 тысяч рублей. Компания работала с прибылью! На основании чего же наш клиент должен был делать вывод, что ему пора подавать заявление о банкротстве? А раз в тот период, когда компанию возглавлял Виталий, признаков неплатежеспособности не наблюдалось, у нашего подзащитного не могло возникнуть обязанности подать в суд заявление о банкротстве.
И суд снова согласился с нами. В определении отмечается, что наличие кредиторской задолженности не может рассматриваться как единственный критерий, характеризующий финансовое состояние должника, и быть основанием для немедленного обращения в арбитражный суд с заявлением должника о банкротстве. Неплатежеспособность не следует отождествлять с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору, что согласуется со сложившейся судебной практикой и выводами Верховного суда.
Чтобы скачать соответствующую практику Верховного суда, введите свой е-мейл:
В итоге Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявления о привлечении Виталия к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Альбатрос Лоджистикс». Решение это благополучно устояло и в апелляционной, и в кассационной инстанции.
Чтобы скачать судебные акты по этому делу, введите свой е-мейл:
Выводы
На первый взгляд, победа далась нашему клиенту относительно легко, но в реальности дело это было не таким простым, как может показаться. Оно еще раз подтвердило рекомендации, которые мы давали в наших статьях.
Во-первых, если вы находитесь в зоне риска и являетесь потенциальным субсидиарщиком, запасайтесь документами, — они впоследствии позволят обосновать вашу позицию. Виталию очень помогло то, что у него оказались на руках квартальные балансы (пусть и неподписанные).
Во-вторых, не отсиживайтесь в кустах, надеясь на то, что проблема вас не затронет. Активно участвуйте в процедуре банкротства.
Как правило, люди обращаются к нам, когда на них уже подали заявление о СО и выстраивать оборону становится сложнее. Между тем, у субсидиарщика есть возможности сделать некоторые упреждающие шаги. Например, очень часто в процедуре банкротства встает вопрос о дате возникновения неплатежеспособности. Возникла она в период работы этого директора или другого? Отчего она возникла? Отвечая на эти вопросы, конкурсные управляющие и кредиторы ссылаются на результаты финансового анализа, который проводится в процедуре наблюдения.
Ответчик, как правило, этой процедурой не интересуется. Мы же говорим своим клиентам: идите и обжалуйте результаты финансового анализа, которые будут явно не в вашу пользу. Если вы не оспорите выводы арбитражного управляющего, то почему суд не должен будет потом их принять?
Работая с «плохим» финансовым анализом, можно, как в случае с Виталием, заказать аналитическую записку (рецензию). А если у вас сохранились документы (см. п. 1 выше), то можно сделать альтернативный финанализ и представить его в качестве доказательства в суде. Все это мы умеем делать. Так что, если не можете справиться самостоятельно, обращайтесь за помощью. Наши контакты здесь. Как мы проиграли суд на 27 миллиардов

Дело: № А40-31510/15
Цена вопроса: 27,3 млрд руб.
Начало проекта: апрель 2018 года
Срок реализации: 3 года
Сложность: высокая
Трудозатраты: около 1300 н/час
Темп: небыстрый
Результат: дело проиграно
Стоимость: семизначная, в рублях
На прошлой неделе мы начали рассказывать про один из крупнейших судов (по сумме требований и длительности), в котором «Игумнов Групп» принимала участие за последние пять лет. Речь идет о привлечении к субсидиарной ответственности бывших акционеров и топ-менеджеров Судостроительного банка. В первой статье мы рассказали о том, как два года активной работы в первой инстанции привели нас к победе. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Вторая инстанция
Доводы, с которыми конкурсный управляющий Судостроительного банка («Агентство по страхованию вкладов») вышел в апелляцию, можно было предвидеть.
АСВ никак не устраивало применение годичного срока давности (одно из оснований, по которым заявление о привлечении к субсидиарке было оставлено без удовлетворения в первой инстанции). В обоснование своей позиции агентство сослалось на то, что, хотя общий закон о банкротстве действительно содержал норму о сроке давности в 1 год, для серьезных пацанов, к числу которых относятся банкиры, должен применяться 3-летний срок исковой давности, указанный в Гражданском кодексе. «Невозможно в течение одного года изучить тот огромный объем информации, свойственный кредитным учреждениям», — заявила госкорпорация, имеющая несколько тысяч сотрудников и миллиардный бюджет.
«А еще срок исковой давности должен отсчитываться не с момента введения конкурсного производства, а с даты, когда завершены мероприятия по формированию конкурсной массы, — добавляли наши оппоненты. — Ведь только в этот момент становится понятно, что денег на всех кредиторов не хватит, и появляются основания для привлечения к субсидиарной ответственности». И это опять же говорит организация, у которой достаточно опыта, чтобы предвидеть судьбу банка уже в момент отзыва лицензии.
Далее АСВ написало, что на самом деле оно приобщило к материалам дела все кредитные досье, а суд просто не принял их во внимание. Агентство пожаловалось также на то, что руководство банка серьезно препятствовало деятельности конкурсного управляющего и не передавало документы. И только благодаря титаническим усилиям КУ были найдены оригиналы кредитных договоров на сумму 33 млрд рублей. Найдены, кстати, они были не в офшорах и не на даче председателя правления, а, со слов АСВ, в помещениях самого банка. Какое неожиданное место для хранения документов!
Далее АСВ продолжало настаивать, что заемщики были заведомо неспособны вернуть кредит, а руководство банка не приняло должных мер к тому, чтобы заранее выяснить очевидную всем истину. Наличие бизнес-процесса по проверке надежности заемщика и количество вовлеченных в эту процедуру подразделений представители АСВ почему-то обошли вниманием.
Относительно доводов о том, что некоторые заемщики возвращали кредиты, уплачивали проценты и имели хорошую кредитную историю, в АСВ заявили следующее: «Суд сформировал свое мнение, не приняв во внимание другие доказательства и иные обстоятельства в совокупности». Очевидно, по мнению АСВ, банкиры-злоумышленники уже при выдаче кредитов должны были отнести их к 5-й (самой низкой) категории качества. И тогда бы задолженность была оценена правильно – как безнадежная ко взысканию.
Дальше АСВ перешло от общего к частному — к разбору полетов каждого отдельного ответчика. Про нашего клиента Дмитрия было сказано: утверждения, что он не подписывал большую часть протоколов кредитного комитета несостоятельны. Подпись Дмитрия на самом деле присутствует, но просто «стоит правее того места, где должна быть и из-за своей конструктивной простоты сливается с другими подписями». И так по 312 сделкам! В этом месте можно смеяться.
В общем, в апелляционной жалобе мы не увидели ничего такого, с чем нельзя было бы работать.
Судебное заседание
Написав отзыв на апелляционную жалобу в той части, что касалась нашего доверителя, мы со спокойной душой отправили его в суд. Но на следующий день в картотеке арбитражных дел появилась информация о том, что АСВ приобщило к материалам дела новые документы. До судебного заседания оставалось три дня, и ознакомиться с ними мы не успевали.
На заседании представитель АСВ заявил о том, что он привлечен агентством для работы по данному проекту недавно и что ему нужно время, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. В связи с этим он просит об отложении судебного заседания.
Как вы думаете, каковы шансы у простого смертного приобщить в московской апелляции новые документы по делу и отложить судебное заседание в связи со сменой представителя-юриста? Правильно, нулевые. Но к просьбе АСВ суд отнесся внимательно, было видно, что он очень хочет дать агентству шанс отработать все возможные зацепки. Наши возражения были проигнорированы.
После этого АСВ еще дважды уточняло свою апелляционную жалобу, суд еще один раз откладывал судебное заседание, а мы дважды знакомились с новыми материалами и дорабатывали свой отзыв.
«Технические» заемщики
Надо отметить, что новый подрядчик АСВ сделал один очень грамотный ход. Вместо того, чтобы дублировать доводы первоначального искового заявления и рассказывать суду про 566 выданных кредитов, он сосредоточился всего на шести заемщиках, но зато очень подробно расписал их. Основной упор был сделан на схожесть ситуаций, при которых этим шести компаниям были выданы кредиты.
Так, размер каждого из шести кредитов составлял 25–35 млн долларов. Деньги выдавались за 3–4 месяца до отзыва лицензии под более низкий процент, чем другим заемщикам. Сами компании были «свежими» — их зарегистрировали в течение полугода до оформления кредита, и никто из них не имел сколько-нибудь существенных денежных оборотов по счетам. Выписки показывали, что у них не было даже расходов на хозяйственную деятельность (связь, аренда офиса и т. д.). Среднесписочная численность работников компаний составляла 1–3 человека.
Кроме того, все компании, получая кредит, предоставили не ликвидный залог, а только личное поручительство гендиректора. Расходовались деньги тоже одинаково — на покупку ценных бумаг, пополнение брокерских счетов, выкуп собственных векселей Судостроительного банка и др. Между тем личные анкеты директоров компаний-заемщиков не свидетельствовали о том, что у этих людей есть опыт необходимый для работы с ценными бумагами.
После отзыва у банка лицензии представители временной администрации выезжали по адресам, указанным в регистрационных данных компаний, и обнаружили, что на самом деле офисов фирм там нет. АСВ предоставило также судебные акты о взыскании долга с заемщика и поручителя, согласно которым на судебные заседания никто не являлся. А исполнительные производства были прекращены в связи с невозможностью найти имущество должников.
Все эти обстоятельства, по мнению АСВ, говорили о том, что заемщики были «техническими» и заведомо не могли вернуть кредит. При этом сумма вменяемых «технических» кредитов уменьшилась, но приведенные доказательства выглядели вполне весомо.
Наша позиция
Так как новые доводы АСВ в отношении этих шести компаний мы по существу опровергнуть не могли, то наша позиция свелась к тому, что нашего доверителя можно привлечь к субсидиарной ответственности только в двух случаях:
1) Членам кредитного комитета, одобрявшим выдачу кредитов вышеуказанным компаниям, была предоставлена отрицательная информация о заемщиках, из которой можно было сделать вывод о заведомой невозвратности ссуд на дату их выдачи, но несмотря на это члены комитета одобрили данные сделки.
2) Ответчики не получили достаточной информации для оценки благонадежности заемщиков, но, несмотря на это, опять же приняли решение о выдаче кредитов.
Если отрицательных заключений о состоянии заемщиков не поступало и в кредитных досье была собрана вся необходимая документация, то можно говорить о введении ответчиков в заблуждение профильными подразделениями банка. Соответственно, их личной вины в выдаче данных кредитов нет.
На наши доводы АСВ ответило, что кредитные досье банк ему не передавал и поэтому установить, что именно происходило с кредитными заявками, невозможно.
В ответ на это мы напомнили о первоначальной версии апелляционной жалобы, в которой агентство писало, что кредитные досье в суд предоставлялись, но первая инстанция необоснованно не приняла их во внимание. Кроме того, мы написали обо всех случаях, когда агентство противоречило само себе: то ссылалось на отсутствие кредитных досье целиком, то заявляло, что досье есть, но в них отсутствует часть информации, то прямо в судебных заседаниях приобщало якобы отсутствовавшие документы к материалам дела и при этом утверждало, что кредитные досье имеются по каждому заемщику, а протоколы кредитного комитета подписаны конкретными участниками. Откуда это можно было узнать, если документы не передавались?
На самом деле такое противоречивое поведение АСВ говорило о том, что все документы у агентства были, но оно их придерживало, потому что ответчикам доказать свою невиновность при отсутствии доступа к документации весьма затруднительно.
Размер субсидиарки
Мы обратили внимание суда еще на один интересный момент, который в обычном процессе перечеркнул бы все усилия кредитора. Дело в том, что в размер субсидиарной ответственности по закону вменяются только долги, включенные в реестр требований кредиторов. Это общеизвестный факт.
Проблема заключалась в том, что в нашем деле этот реестр отсутствовал. И если в первой инстанции мы по этому поводу особо не парились, так как АСВ могло в любой момент такой реестр предоставить, то в апелляции это обстоятельство приобретало уже огромное значение. С одной стороны, новые доказательства по делу приобщать уже нельзя, а с другой стороны, получается, что размер субсидиарной ответственности в 27 млрд рублей взят с потолка, а если нет четко установленной суммы, то нет и ответственности.
В материалах дела присутствовал только реестр сделок с якобы «техническими» заемщиками, на которые ссылалось АСВ как на доказательство доведения банка до банкротства. Реестр сделок, Карл! Как можно посчитать размер субсидиарной ответственности по реестру сделок? Это как считать количество яблок по числу деревьев. Максимум, о чем можно судить по реестру убыточных сделок, это о сумме причиненного ущерба/убытков банку. Но вариант переквалификации требований с субсидиарки на убытки мы предусмотрели еще в первой инстанции и еще тогда подали второе заявление о пропуске срока исковой давности именно по взысканию убытков.
Кстати, по поводу убытков. Надо отдать должное новой команде АСВ – она нашла в себе силы отказаться от попыток упрямо гнуть свою линию любой ценой и приняла во внимание наши доводы о том, что наш клиент Дмитрий не участвовал в одобрении и подписании большей части вменяемых кредитных договоров. А те договоры, которые он подписывал, заключались с надлежащими заемщиками, обслуживавшими свои кредиты.
Силами АСВ был сделан расчет, с которым мы согласились. Наш клиент подписал всего 38 кредитных договоров, по которым было выдано 6,2 млрд рублей, из них возращено 5,3 млрд рублей. Итого: не возвращено 900 млн рублей по двум (!) кредитным договорам. Если сравнить эту сумму с общей суммой активов, то становится очевидным, что такой объем «невозвращенки» не мог довести кредитную организацию до банкротства. А значит, можно было говорить только о взыскании с нашего клиента ущерба/убытков. И такой вариант нас опять же вполне устроил бы, так как по этому основанию тоже был пропущен срок исковой давности.
Но несмотря на логичные и обоснованные доводы к третьему судебному заседанию мы уже понимали, что эта война для нас проиграна. Суд задавал АСВ вопросы, обозначая слабые места в их позиции, а затем давал время доработать жалобу. От наших же доводов просто отмахивались: «Нет расчета размера субсидиарной ответственности? Ну где-то же должен быть реестр требований кредиторов… Не будем же мы его искать по всему банкротному делу!?» или «Пропущен срок исковой давности по субсидиарке? Ерунда какая-то… У нас в Москве такой практики нет».
Мотивы суда были понятны. В 2019–2020 годах примерно по 90% банков, находившихся у АСВ в работе, были пропущены сроки исковой давности для предъявления иска по субсидиарке (если этот срок составлял один год). Из-за этого сотни банкиров могли избежать субсидиарной ответственности, а судам пришлось бы списать сотни миллиардов рублей. И виновато в этом было бы АСВ, вряд ли главу госкорпорации за это погладили бы по голове.
В общем, суд мы проиграли. Судебный акт первой инстанции был отменен, нашего клиента вместе с другими ответчиками привлекли к субсидиарной ответственности на 27,3 млрд руб. Вынесенный судебный акт нет смысла комментировать – он на 80%, вплоть до запятых, был переписан с финальной редакции апелляционной жалобы АСВ.
Чтобы скачать судебный акт апелляции оставьте свой е-мейл здесь:
Итоги и думы
Мы понимали подоплеку этого судебного процесса и тщетность попыток отменить его результаты. Но тем не менее использовали оставшиеся возможности и подали жалобу в кассацию, а затем обратились и в Верховный суд, и в надзор. Но пока никакого облегчения нашему клиенту это не принесло, постановление апелляции остается в силе.
В ходе работ по проекту Судостроительного банка нам приходилось слышать много прогнозов. В большинстве своем они сводились к следующему: «Что бы вы ни делали, к субсидиарке все равно привлекут, потому что все понимают, что люди наворовали и они должны быть наказаны».
Такая позиция вполне годится для простого обывателя, но слышать такое от коллег по цеху неприятно. И не потому, что я слепо верю в невиновность банкиров, а потому, что хорошо помню 90-е годы прошлого века. Тогда споры решались людьми, имеющими авторитет в криминальных кругах, и делалось это по понятиям.
С тех пор прошло почти тридцать лет, и культура разрешения конфликтов сегодня вроде бы изменилась, но что-то от старых привычек все-таки осталось. Одних судим по закону, а других – по понятиям. И это не добавляет стабильности и прогнозируемости всем участникам судебных процессов. И я как юрист такого «дуализма» не поддерживаю. Всем нужны единые и постоянные правила игры.
В случае с Судостроительным банком мы по закону были правы. И от того наш проигрыш еще обидней. Но, с другой стороны, я не вижу, что можно было еще сделать для того, чтобы защитить наши позиции в апелляции. Мы сделали, что могли, а потому не стыдимся поражения. Это дело мы записали в копилку кейсов, которые делают нас сильнее. За одного битого двух не битых дают, так что, если вам нужна помощь профессионалов, звоните сюда. Защита акционера банка от субсидиарной ответственности. Часть 1

Дело: № А40-31510/15
Цена вопроса: 27,3 млрд рублей
Начало проекта: апрель 2018 года
Срок реализации: 3 года
Сложность: высокая
Трудозатраты: около 1300 н/час
Темп: небыстрый
Результат: дело проиграно
Стоимость: семизначная, в рублях
В феврале 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Судостроительного банка, входившего в ТОП-100 крупнейших банков России. Через два месяца, 23 апреля, Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом. Было открыто конкурсное производство, и функции конкурсного управляющего возложили на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Спустя еще три года, 18 апреля 2018 года, АСВ подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми человек. Требования о взыскании 27,3 млрд были предъявлены к акционерам, председателю правления, членам правления и главному бухгалтеру.
Одним из ответчиков был Дмитрий. Он являлся акционером банка, занимал должность заместителя председателя правления и входил в состав кредитного комитета. В принципе, Дмитрий мог бы нанять любую юридическую компанию в России, но он предпочел выбрать профессионалов, защита от субсидиарной ответственности для которых — один из основных профилей. Так в этом деле появились мы — «Игумнов Групп».
Нашему клиенту вменялось доведение кредитной организации до банкротства путем выдачи заведомо невозвратных кредитов «техническим» юрлицам. В переводе на русский это означало, что банк выдавал деньги «пустым» компаниям, которые затем обналичивали их или переводили на счета других фирм. А выгодоприобретателями от этих операций якобы были топ-менеджеры банка.
Нам предстояло доказать, что АСВ ошибалось.
Плюсы
Объективный судья
Когда долго занимаешься одним направлением судебной работы, начинаешь понимать, кто из судей склонен привлекать к субсидиарной ответственности и заведомо будет не на твоей стороне. Но в этом деле нам повезло. Иск рассматривал судья А. А. Свирин, который обычно подходит к делу объективно и не дает спуску обеим сторонам процесса. Кроме того, у Свирина уже была отказная практика по банковской субсидиарке, так что у нас имелись шансы быть услышанными.
Наличие информации
Ответчик занимал высокий пост и владел информацией о том, что происходило в банке. Это облегчало нам понимание ситуации и формирование позиции.
Любимая тема
Защита от субсидиарной ответственности — это то, в чем мы хорошо разбираемся и выиграли уже
не один десяток подобных дел.
Минусы
Политика и предубеждение
Существует определенное предубеждение в отношении акционеров и топ-менеджеров банков. Считается, что все они (или почти все) занимаются выводом активов, отмыванием денег и прочими незаконными операциями. Отсюда негласный посыл государства — «банкиров надо мочить».
Сильный противник
АСВ — государственная корпорация, обладающая мощным административным ресурсом. К тому же агентство специализируется на банковской тематике, следовательно, на везение тут рассчитывать не приходится — все решают опыт и компетентность.
Организационные вопросы
К ответственности привлекали несколько человек. А значит, возможны были два сценария: либо начнется борьба, и ответчики станут валить вину друг на друга, либо они будут «дружить». Но и в том, и в другом случае от нас требовались дополнительные усилия. В случае «войны» нам пришлось бы бороться, помимо АСВ, с бывшими сослуживцами доверителя, в случае «мира» — вырабатывать единую тактику и регулярно согласовывать позиции с товарищами по несчастью. Ни к тому, ни к другому формату работы нам было не привыкать, но все-таки, когда клиент один или ты представляешь интересы всех ответчиков, работается немного легче.
Большая сумма
Вменяемая сумма субсидиарки превышала 27 млрд рублей. Это много даже для банковского сектора, поэтому нам было гарантировано пристальное внимание со стороны судейского аппарата, а АСВ внимательно контролировало своих исполнителей.
Защита от субсидиарной ответственности на 27 млрд: старт проекта
Работу по проекту мы, как обычно, начали с ознакомления с материалами. И тут же надолго завязли… Документов было очень много — свыше трехсот томов. Их выдавали частями в отведенные для ознакомления с делом часы, и только на то, чтобы сфотографировать все бумаги, у нас ушло целых два месяца.
Изучив материалы дела, мы приступили к выработке позиции. С чего мы начали?
Во-первых, с поиска и анализа судебной практики. Мы изучали дела по банковской субсидиарке по всей России, но особое внимание уделили судебным актам, вынесенным по аналогичным делам нашим судьей.
Расчет был простой: заранее понять, как он оценивает те или иные доводы и обстоятельства в аналогичных делах, какой объем доказательств считает необходимым и достаточным. Если в ходе разбирательства мы сошлемся на выводы судьи, сделанные им в предыдущих случаях, то он, как человек адекватный и здравомыслящий, едва ли станет противоречить сам себе, вынося решение по нашему делу.
Во-вторых, мы подробно обсуждали ситуацию с клиентом. Проблема в том, что, будучи внешними юристами, мы не могли самостоятельно разобраться во всех тонкостях бизнеса. А для качественной работы надо понимать специфику. Как и почему принимались те или иные решения? Из-за чего возникла неплатежеспособность? Какие предписания выносил Центробанк и как они выполнялись? Как были организованы бизнес-процессы и, в частности, выдача кредитов? Кроме того, в представленных оппонентами документах могли быть откровенные подтасовки, и никто, кроме заказчика, не мог сказать, существовал в действительности такой документ или нет.
Обычно результаты ознакомления с материалами дела мы выгружаем в «облако» и открываем клиенту доступ, чтобы он тоже мог все изучить. А вот в дальнейшем наше общение с клиентом строится по-разному. С кем-то мы общаемся всего раз-другой и затем выходим на связь условно через год, чтобы отчитаться о выигрыше дела. А другому клиенту «везет» меньше, и ему приходится подолгу беседовать с юристами чуть ли не после каждого судебного заседания. Этот проект был из второй категории, и спасибо нашему доверителю за то, что всегда оставался на связи.
В-третьих, мы занимались сбором документов в поддержку тех доводов, которые планировали изложить в нашем отзыве. Звучит вроде бы легко и просто, но на деле сбор доказательств занял почти весь первый год работы по проекту. Одни документы мы взяли из материалов АСВ, другие получили от клиента и коллег по процессу, что-то попытались истребовать через суд… Цель этой работы одна — добытые доказательства должны опровергать позицию оппонентов.
Позиция АСВ: технические заемщики
Вменять банкиру кредитование «технических» заемщиков — любимый прием АСВ. 90 % всех исков по банковской субсидиарке, с которыми нам приходится сталкиваться (а мы в общей сложности ведем сейчас почти десяток таких проектов), содержат это основание. При этом четких критериев для отнесения заемщиков к категории «технических» в законе нет. АСВ, как правило, записывает в нее недавно созданные компании с минимальным уставным капиталом и небольшим штатом, не ведущие хозяйственной деятельности и не имеющие кредитной истории.
И здесь было крайне интересно наблюдать, как АСВ выворачивает факты, чтобы подогнать желаемое под действительное. Так, агентство утверждало, что банк выдал кредиты почти сотне заведомо неплатежеспособных юрлиц. В качестве доказательств того, что заемщики являлись «техническими», приводилась информация о том, что юридические адреса их компаний были признаны недействительными, сотрудников в штате не имелось, а гендиректора являлись номинальными.
На первый взгляд, все это выглядело красиво и убедительно, если бы не одно «но». По большинству контрагентов АСВ приводило данные на дату подачи заявления о субсидиарной ответственности, то есть на 2018 год, тогда как вменяемые ответчикам «технические» кредиты выдавались в основном в 2013–2014 годах. Логика получалась странная: пять лет назад вы выдали фирме кредит, а сегодня она разорилась, и вас привлекают к субсидиарке: мол, компания «техническая», так как на текущий момент уже не работает.
Позиция АСВ: кредитные досье
Еще интереснее выглядела ситуация с доказательствами по делу, представленными АСВ. Выдача банковского кредита осуществляется в соответствии с определенной процедурой, в которой задействовано с десяток (!) подразделений банка, начиная со службы безопасности и заканчивая подразделением по контролю кредитных рисков. В итоге получается пухлая папка с документами, которая называется кредитным досье. Из этого досье видно, какая информация была собрана по заемщику и какие подразделения одобряли выдачу кредита или требовали собрать дополнительные сведения. В общем, кредитное досье позволяет понять, насколько тщательно проверялся заемщик.
Здесь сделаем маленькое, но важное отступление. Представьте, что вы гендиректор фирмы, торгующей консервами. К вам приходит менеджер по продажам Вася и говорит, что надо поставить партию тушенки с отсрочкой платежа на один месяц, и просит подписать документы на отгрузку. И таких «Вась» у вас в компании сто человек. Естественно, одного гендиректора на проверку всех покупателей тушенки не хватит, поэтому в компании разрабатывается специальная процедура проверки подобных сделок с участием нескольких подразделений фирмы. Цель — минимизировать число случаев, когда контрагент с консервами просто исчезает. Все результаты проверки подшиваются в папку-досье. И если покупатель тушенки все-таки не оплатит товар, то досье поможет, во-первых, разобраться, был ли прокол несчастным стечением обстоятельств или результатом преступного сговора Васи с покупателем, и, во-вторых, сделать выводы и избежать подобных «пустых» отгрузок в будущем.
Аналогичную роль играет и кредитное досье. Если все подразделения были против кредита, но топ-менеджеры, несмотря на это, все-таки решили его выдать, то они и несут ответственность. А если никто из проверяющих подразделений не увидел рисков, а топ-менеджеры просто подписали документы по согласованной сделке, то тогда они действовали разумно и добросовестно в рамках принятой деловой практики. А как мы помним, для привлечения к субсидиарной ответственности нужно доказать вину, которая во втором случае как раз отсутствует.
Так вот фокус, который показало АСВ, заключался в том, что из досье выдергивались только те документы, которые однозначно свидетельствовали в пользу заявленной агентством позиции. Остальные документы просто утаивались. И о том, как мы добивались возможности увидеть кредитные досье в полном объеме, можно написать целую эпопею. Кроме того, по некоторым заемщикам досье отсутствовали, а значит, доводы АСВ вообще ничем не подкреплялись и носили предположительный характер.
Позиция АСВ: отсутствие платежей
Аналогичная ситуация была и с невозвратом кредитов. АСВ утверждало, что должники просто испарились вместе с деньгами. В принципе, выяснить, платил заемщик по кредиту или нет, довольно просто — надо проверить выписку корреспондентского счета банка. Но получить эту выписку считается достижением сродни полету на Марс, потому что и АСВ, и суды по каким-то причинам продолжают считать эту информацию большим секретом, несмотря на то, что режим коммерческой тайны организации прекращается с момента введения конкурсного производства.
Тем не менее, мы хорошо поработали с документами, имевшимися в материалах дела, и по крупицам собрали доказательства того, что многие так называемые «технические» заемщики были совсем не техническими. Они погашали кредиты и выплачивали проценты вплоть до отзыва у банка лицензии. Некоторые из вменяемых нашему доверителю заемщиков кредитовались в банке неоднократно и имели хорошую кредитную историю. Другие к моменту разбирательства полностью погасили свои долги перед кредитной организацией. Тут вообще отсутствовал факт причинения вреда, а ведь его наличие является обязательным условием для привлечения к субсидиарке. Доходило до смешного: некоторые фирмы вообще не получали (!) кредитов в банке и были записаны в дело «до кучи».
Позиция АСВ: итого
После того, как мы вникли в дело, у нас сложилось впечатление, что АСВ формировало свою позицию по принципу: «За вкус не ручаемся, но горячо будет!» Собрать и свалить в одну кучу то, что было, и то, чего не было, расписать это умными словами на нескольких десятках листов и закидать оппонентов коробками с документами, чтоб у них просто не было времени все изучить, структурировать и подготовить ответ.
И расчет этот отчасти оправдался — среди наших коллег были те, кто не смог полностью ознакомиться со всеми материалами. А сами мы изучали документы, не поднимая головы, в течение почти 5 месяцев.
Наша позиция: заемщики были реальными
Первое, что было сделано в ходе подготовки отзыва на заявление АСВ, — мини-финанализ сотни так называемых «технических» заемщиков. Это значит, что по каждой фирме мы выяснили, когда был получен кредит, какие финансовые показатели на этот момент были у заемщика, какой была численность сотрудников, был ли директор реальным, а юридический адрес — живым, каким был размер уставного капитала, какая часть основного долга погашена и сколько процентов уплачено?
Информацию по заемщикам мы, естественно, брали на дату получения кредита. Логика здесь простая: по закону невыгодность сделки определяется на момент ее совершения. Таким образом, если в момент выдачи кредита заемщик не был заведомо неплатежеспособным, то нельзя обвинять нашего клиента в выдаче невозвратного кредита.
Наша позиция: обычный предпринимательский риск
Затем мы стали анализировать сами сделки по выдаче кредитов, которые, по мнению АСВ, привели к банкротству банка. Их в общей сложности набралось 566. По каждой мы поднимали кредитные досье (там, где смогли получить их от АСВ), протоколы одобрения кредитным комитетом и кредитные договоры. Задача была оценить каждый выданный кредит и сделать выводы о противоправности/законности действий нашего клиента.
В итоге мы выяснили, что больше половины вменяемых нашему доверителю кредитов в принципе не имеют к нему отношения. Его подписи отсутствовали в протоколах кредитного комитета по 312 сделкам из 566. Еще ряд сделок наш клиент не мог одобрить физически, так как в этот момент находился за рубежом, о чем свидетельствовали отметки в его загранпаспорте.
В остальных же случаях решения о выдаче кредитов принимались коллегиальным органом, и по закону необходимо было установить степень вины каждого лица, участвовавшего в их одобрении. Это нужно как раз для того, чтобы избежать ситуации, когда вина возлагается на лицо, которое подписало документы на основании некорректной информации, подготовленной подразделениями банка.
Подразделения банка, участвовавшие в одобрении кредитных заявок:
- Департамент корпоративного бизнеса,
- Департамент по работе с корпоративными клиентами,
- Управление информации и анализа,
- Департамент кредитования,
- Управление по кредитованию юридических лиц Департамента кредитования,
- Управление по кредитной работе Департамента кредитования,
- Управление по работе с залоговым обеспечением Департамента кредитования,
- Управление контроля кредитных рисков Службы управления и контроля рисков,
- Управление безопасности и режима,
- Юридический департамент,
- Инвестиционно-финансовый департамент,
- Управление по работе с проблемными активами,
- Управление учета активно-пассивных операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности.
Мы подняли и изучили внутренние документы банка, регламентировавшие процедуру выдачи кредитов, и, ссылаясь на Положение ЦБ № 254-п, расписали для суда весь бизнес-процесс с распределением зон ответственности между подразделениями банка.
Получалось, что деятельность нашего клиента не выходила за пределы разумного делового риска: департаменты все проверяли и все согласовывали, топ-менеджеры подписывали… Ну а то, что деньги кто-то потом вернуть не смог — такое бывает: заемщики разоряются, бизнесы закрываются. Се ля ви…
Наша позиция: срок исковой давности
Ну, и вишенкой на торте стало заявление о пропуске сроков давности. Это было для нас предметом особой гордости. Я помню, как мы предложили заявить о пропуске срока нашим коллегам по процессу. Весьма показательной была реакция одного маститого адвоката, сказавшего: «Написать можно все, что угодно, но вот пропуск срока суд точно не удовлетворит. Не то что не удовлетворит, даже всерьез рассматривать не будет».
Но мы это сделали. Судебный процесс шел к концу, представитель АСВ закончил отрабатывать свою часть и был на расслабоне, ожидая скорой развязки. И когда мы заявили о том, что АСВ пропустило срок на подачу заявления и что это является самостоятельным основанием для отказа в иске, представитель агентства чуть не выронил папку из рук, побледнел и тут же попросил об отложении судебного заседания для подготовки своей позиции. Такие переломные моменты в ходе дела и острые реакции на них потом смакует весь офис.
В целом ситуация со сроками исковой давности сводилась к следующему: до 2014 года в России было два отдельных закона о банкротстве: один для кредитных организаций (БКО) и другой для всех остальных (ФЗоБ). При этом в законе для банков не было указаний на сроки исковой давности, а в общем законе о банкротстве сроки менялись, сначала было три года, потом — год, потом — снова три.
Но мы сделали упор на то, что в законе о банкротстве кредитных организаций (БКО) содержалось одно важное положение: «Отношения, не урегулированные данным законом, регулируются законом о банкротстве». Это означало, что в вопросе о сроках исковой давности нужно было ориентироваться на ту редакцию общего закона о банкротстве (ФЗоБ), которая действовала в интересующий нас момент. А срок этот, как мы помним, составлял то один год, то три.
Казалось бы, все логично и понятно, но на практике суды почему-то упорно обходили вниманием упомянутое положение закона о БКО и применяли сроки, указанные в Гражданском кодексе РФ, а там все четко — три года. Мы же считали и считаем правильным дифференцированный подход, закрепленный непосредственно в законодательстве о банкротстве кредитных организаций. В общем-то в этом и заключалось все наше новаторство: внимательное прочтение закона и его правильная трактовка.
Что получалось в нашем случае? В заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров и руководителей Судостроительного банка говорилось, что существенное ухудшение финансового положения кредитной организации произошло в период с 1 февраля 2013 года по 16 февраля 2015 года. А уже 25 апреля 2015 года банк был признан банкротом.
Задача: в течение какого срока конкурсный управляющий имел право подать заявление?
В нашей ситуации обстоятельства, являвшиеся основанием для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, явно возникли до 2017 года — до вступления в силу поправок к закону о банкротстве, которыми был установлен трехлетний срок исковой давности. А значит, следовало применять годичный срок. Заявление было подано в апреле 2018 года, и получалось, что срок был пропущен, а это основание для отказа в удовлетворении иска.
Наша позиция: другие доводы
В ходе разбирательства нами заявлялись и другие доводы и ходатайства, которым суд не дал оценку. В частности, мы утверждали, что:
1) Наш доверитель, будучи заместителем председателя правления, не отвечал за работу кредитного подразделения. По данному поводу было ранее заявлено ходатайство об истребовании у АСВ приказа о распределении полномочий, который у нас имелся в неподписанном виде.
Результат: в истребовании было отказано, но ввиду благоприятного исхода дела степень вовлеченности нашего доверителя в управление кредитными рисками уже не имела значения.
Мы также считали, что:
2) Вменяемый нашему доверителю ущерб несопоставим с размером общего ущерба, причиненного банку. То есть фактически заявленные требования подпадают под убытки, а не под субсидиарную ответственность, а по убыткам пропущен срок исковой давности.
Результат: суд не произвел переквалификацию требований в убытки, но и это не сказалось на исходе дела для нашего клиента.
Защита от субсидиарной ответственности в первой инстанции
Подготовка финальной версии отзыва и сбор соответствующих доказательств заняли у нас примерно год. К лету 2019 года мы были полностью готовы к рассмотрению дела по существу, но наши неожиданные доводы по срокам исковой давности и истребование доказательств коллегами затянули процесс еще почти на 12 месяцев. Только в марте 2020-го, спустя два года после подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, Арбитражный суд Москвы вынес заключительный судебный акт.
Суд: сроки исковой давности
Практически все ответчики приняли нашу позицию по срокам исковой давности. И суд, надо отдать ему должное, тщательно разбирался в этом вопросе. Исковой давности посвящена примерно треть 24-страничного определения.
В итоге суд согласился, что если конкурсный управляющий ссылается на неправомерные действия ответчиков в 2013–2015 годы, то применению подлежат положения Закона о банкротстве в редакции 2013 года. В соответствии с этой редакцией «заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано в течение одного года со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о наличии соответствующих оснований, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом».
Судостроительный банк был признан банкротом 25 апреля 2015 года, тогда же был утвержден и конкурсный управляющий должника (в лице АСВ). Спустя восемь месяцев, 24 декабря 2015 года, АСВ опубликовало отчет «О результатах инвентаризации банка». Этот документ полностью подтверждал наличие задолженности по кредитам, на которые управляющий ссылался как на основание для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности.
Таким образом, АСВ уже в декабре 2015 года знало о том, что у него есть основание привлекать к субсидиарке и что начал течь годичный срок на подачу заявления. Однако заявление поступило в суд только в апреле 2018 года. Исходя из этого, суд подтвердил наш вывод о том, что срок исковой давности в этом деле был пропущен. А значит, имеются основания для отказа в удовлетворении заявления АСВ.
Контрдоводы АСВ
Мы заранее просчитали возможные контрдоводы АСВ и приготовились к ним.
АСВ могло ссылаться на то, что пресекательный срок в соответствии с указанной редакцией закона составлял три года и что агентство в эти три года уложилось. На такой довод у нас было готово возражение, что правовые последствия для заявителя иска в любом случае наступают с момента истечения годичного срока субъективной исковой давности при условии, что он наступил ранее трех лет со дня признания должника банкротом.
Также АСВ могло утверждать, что срок исковой давности начал течь только с момента окончания мероприятий по формированию конкурсной массы. Мол, мы три года деньги собирали-собирали, а когда все собрали, вот тут-то и поняли, что их не хватает для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, и с этого момента для нас и начал течь срок исковой давности.
По нашему глубокому убеждению, такой подход если и имел право на жизнь, то только до 2017 года. По новой же редакции закона, которая определяла порядок рассмотрения настоящего заявления АСВ, конкурсный управляющий имеет право заявить требование о привлечении лиц к субсидиарке, не дожидаясь формирования конкурсной массы и определения точного размера субсидиарной ответственности, так как сейчас момент установления точной суммы долга и факт привлечения разнесены во времени. Кроме того, если это требуется, то рассмотрение заявления можно легко приостановить по ходатайству заявителя.
Суд: остальные доводы
Суд встал на нашу сторону и при рассмотрении претензий АСВ по существу.
Он согласился с тем, что конкурсным управляющим не были представлены доказательства того, что заемщики заведомо не имели возможности вернуть кредит в момент его получения и что топ-менеджеры банка знали об этом (или должны были знать исходя из обычной практики банковской деятельности).
Также судья Свирин согласился с тем, что заявителем не была установлена степень вины каждого из ответчиков и не определен размер убытков, подлежащих возмещению каждым из них. Кроме того, был принят во внимание тот факт, что наш доверитель не одобрял большинства вменяемых ему сделок. В результате суд пришел к выводу, что в удовлетворении заявления о привлечении Дмитрия к субсидиарной ответственности должно быть отказано.
Так же, по мнению суда, надо было поступить и в отношении других ответчиков. Судья посчитал, что не была доказана ни противоправность их поведения, ни причинно-следственная связь между их действиями и наступлением убытков у кредиторов, что исключает возможность привлечения к субсидиарке.
Если хотите скачать определение суда по этому делу, введите свой е-mail:
В итоге мы выиграли суд. И это был полный триумф! Однако мы не сомневались, что впереди нас ждет апелляция и кассация, где все может измениться. Так оно и случилось, но об этом мы поговорим в следующей статье.
Информация в статье актуальна на дату публикации.
Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте к нам в гости в Москву и Санкт-Петербург.
 В нашей недавней статье мы рассказали о процедуре обжалования акта проверки в проводившей ее территориальной налоговой инспекции. Подробно расписали, как готовятся возражения налогоплательщика, как проводятся мероприятия дополнительного налогового контроля и как проходит рассмотрение итогов проверки. Почитать об этом вы можете здесь.
В нашей недавней статье мы рассказали о процедуре обжалования акта проверки в проводившей ее территориальной налоговой инспекции. Подробно расписали, как готовятся возражения налогоплательщика, как проводятся мероприятия дополнительного налогового контроля и как проходит рассмотрение итогов проверки. Почитать об этом вы можете здесь.